 |
|
Общественная независимая газета в защиту культуры. Основана в октябре 2001 года в г. Владивостоке |
Макс Волошин: |
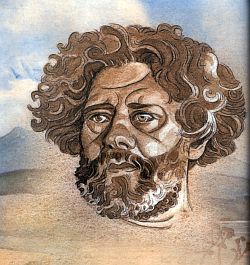 |
По ночам, когда в тумане
Звёзды в небе время ткут,
Я ловлю разрывы ткани
В вечном кружеве минут.
Я ловлю в мгновенья эти,
Как свивается покров
Со всего, что в формах, цвете,
Со всего, что в звуке слов.
Да, я помню мир иной –
Полустёртый, непохожий,
В вашем мире я – прохожий,
Близкий всем, всему чужой.
Ряд случайных сочетаний
Мировых путей и сил
В этот мир замкнутых граней
Влил меня и воплотил.
Как ядро к ноге прикован
Шар земной. Свершая путь,
Я не смею, зачарован,
Вниз на звёзды заглянуть…
В вечных поисках истоков
Я люблю в себе следить
Жутких мыслей и пороков
Нас связующую нить…
(Из цикла “Когда время останавливается”.)
Он стал легендой ещё при жизни. Все называли его просто Максом – и ровесники, и дети, и старцы, признанные поэты, юные художники, критики, философы, белые офицеры и большевики. И все любили его, потому что он любил и понимал всех. Потому что обладал редким даром соединять несоединимое, усмирять страсти и высекать огонь. Он был грузен и необычайно подвижен, бесконечно отрешён и непоколебимо уверен. Он отдавал так, как другие берут – с жадностью. Он умел творить встречи и судьбы…
Из воспоминаний Андрея Белого:
“Волошин как поэт, художник кисти, мудрец, вынувший стиль своей жизни из лёгких очерков коктебельских гор, плеска моря и цветистых коктебельских камушков, стоит мне в воспоминаниях воплощением идеи Коктебеля. И сама могила его, взлетевшая на вершину горы, есть как бы расширение в космос себя преображающей личности. И дом Волошина-парижанина, коктебельского отшельника и краеведа, — гипсовый слепок с его живого, прекрасного, человеческого лица. Вечная память о нём – её не заменят монументы. Сколько новых связей завязывалось здесь, и в центре этого орнамента людей и их интересов видится мне приветливая фигура Орфея – Максимилиана Александровича Волошина, способного одушевить и камень. Он был вдохновителем творчества и познания”.
СИМВОЛ ВЕРЫ М. ВОЛОШИНА
Мне было сказано:
Не светлым лирником, что нижет
Широкие и щедрые слова
На вихри струнные, качающие душу, —
Ты будешь подмастерьем
Словесного, святого ремесла,
Ты будешь кузнецом упорных слов,
Вкус, запах, цвет и меру выплавляя
Их скрытой сущности, — <…>
Для ремесла и духа – единый путь:
Ограничение себя.
Чтоб научиться чувствовать,
Ты должен отказаться
От радости переживаний жизни,
От чувства отрешиться ради
Сосредоточья воли; <…>
Тогда
Из глубины молчания родится
Слово,
В себе несущее
Всю полноту сознанья, воли, чувства,
Все трепеты и все сиянья жизни.
Но знай, что каждым новым
Осуществлением
Ты умерщвляешь часть своей возможной
жизни:
Искусство живо –
Живою кровью принесённых жертв. <…>
Когда же ты поймёшь,
Что ты не сын земле,
Но путник во вселенной,
Что солнца и созвездья возникали
И гибли внутри тебя, <…>
Что ты – освободитель божественных имён,
Пришедший изназвать
Всех духов – узников, увязших в веществе,
Когда поймёшь, что человек рождён,
Чтоб выплавить из мира
Необходимости и разума –
Вселенную Свободы и Любви, —
Тогда лишь
Ты станешь Мастером.
(Из “Подмастерье”.)
Волошин назвал это своё стихотворение поэтическим символом веры. Он верил в бессмертие человеческого духа, в великое предназначение искусства, в космическое единство Мироздания. Круг его интересов заключал великое множество познаний.
Волошин был поэтом-символистом, живописцем, фотографом, искусствоведом, переводчиком, лектором, краеведом. Он был посвящён в хиромантию и оккультизм, в антропософию и христианское учение, но вместе с тем он был един во всех своих ликах. Автор огромного числа критических очерков, литературных эссе и фельетонов, поэм, стихотворений, рисунков и акварелей, он оказался вычеркнутым из памяти целого поколения своих соотечественников. С 1928 по 1961 год ни одно его творение не было опубликовано в России. Причина не нова – Волошин никогда не стремился стать единомышленником власти.
“Совесть народа – поэт, в государстве нет места поэту”, — ещё в начале века вывел он эту крамольную формулу, ранее многих других осознав, что настоящему художнику суждено быть изгоем при всех царях и народоустройствах. Но в понимании признания ему было отказано. “Непризнание только тем и тяжело, — скажет Волошин чуть позднее, — что заставляет нести на плечах весь груз прошлого и лишает свободы перед будущим”.
28 мая 1877 года в Киеве в семье члена Судебной палаты Александра Максимовича Кириенко-Волошина и его жены Елены Оттобальдовны, урождённой Глазер, родился сын Максимилиан. Кириенко-Волошины – казаки из Запорожья, по материнской линии немцы, обрусевшие с XVIII века.
“Я родился в духов день, когда земля – именинница, отсюда, вероятно, моя склонность к духовно-религиозному восприятию мира и любовь к цветению плоти и вещества во всех его формах и ликах. Я любил декламировать, ещё не умея читать, для этого всегда становился на стул – чувство эстрады. С пяти лет – чтение книг в пределах материнской библиотеки: Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Байрон и Эдгар По. С 16 лет – Москва, Гороховская улица. Обстановка суриковской “Боярыни Морозовой”, которая как раз писалась в соседнем доме. Потом окраины Москвы: Ваганьково и Ходынка, Звенигородский уезд”.
Учился Макс неохотно, остался на второй год в третьем классе. В марте 1893 года Елена Оттобальдовна решает переехать с сыном в Крым – друг дома помогает ей приобрести небольшой участок земли в Коктебеле, близ Феодосии...
Сохранилось здание волошинской гимназии. Здесь он поставил как режиссёр “Бежин луг” по Тургеневу и “Разговор дам” по Гоголю. Сыграл в гимназической постановке роль Городничего в “Ревизоре”. В Феодосии Макс учился по-прежнему плохо, ему было скучно, читал на уроках книги. Однажды Елену Оттобальдовну вызвал директор гимназии и строго объявил: “Из уважения к вам, сударыня, мы не исключаем вашего сына. Но повторяю, идиотов мы не исправляем”.
 |
В начале был мятеж,
Мятеж был против Бога,
И Бог был мятежом.
И всё, что есть, началось чрез мятеж.
Из вихрей и противуборств возник
Мир осязаемых
И стойких равновесий.
И равновесье стало веществом. <…>
Мир – лестница, по ступеням которой
Шёл человек. Мы осязаем то,
Что он оставил на своей дороге.
Животные и звёзды – шлаки плоти,
Перегоревшей в творческом огне;
Все в свой черёд служили человеку
Подножием, и каждая ступень
Была восстаньем творческого духа. <…>
Разум
Есть творчество навыворот, и он
Вспять исследил все звенья мирозданья,
Разъял вселенную на вес и на число,
Пророс сознаньем до недр природы,
Вник в вещество, впился как паразит,
В хребет земли неугасимой болью,
К запретным тайнам подобрал ключи,
Освободил заклёпанных титанов,
Построил им железные тела,
Запряг в неимоверную работу:
Преобразил весь мир, но не себя, — <…>
И стал рабом своих же гнусных тварей.
(Из цикла “Мятеж”.)
Из автобиографии:
“В 1897 году я кончаю гимназию и поступаю на юридический факультет в Москве. Ни гимназии, ни университету я не обязан ни единым знанием, ни единой мыслью. Десять драгоценнейших лет, начисто вычеркнутых из жизни. Два года студенческой жизни в Москве оставили впечатление пустоты, бесплодного искания.
В 1899 году я был выслан в Феодосию за организацию студенческих беспорядков. Потом уехал в первый раз за границу. Италия, Швейцария, Париж, Берлин. Вернулся в Москву, был допущен до экзаменов, перешёл на третий курс юридического факультета, затем снова Италия и Греция. Возвращаясь, был арестован, привезён в Москву и выслан в Среднюю Азию”.
Полгода, проведённые Волошиным в пустыне, стали переломным моментом в его духовной жизни. Здесь он почувствовал Восток, древность, относительность европейской культуры. Здесь настигли его сочинения Ницше и Соловьёва…
Я мысленно вхожу в ваш кабинет…
Здесь тот, кто был, и те, кого уж нет,
Но чья для нас не умерла химера,
И бьётся сердце, взятое в их плен…
Бодлера лик, норманнский ус Флобера,
Скептичный Франс, святой сатир – Верлен,
Кузнец – Бальзак, чеканщики Гонкуры…
Их лица терпкие и чёткие фигуры
Глядят со стен, и спят в сафьянах книг
Их дух, их мысль, их ритм, их бунт, их крик…
Я верен им…
(Из “Р.М. Хин”.)
“Из Средней Азии пути ведут меня в Париж. Учиться — художественной форме у Франции, чувству красок – у Парижа, скептицизму – у Анатоля Франса, прозе – у Флобера, стиху – у Гёте, странствуя по музеям и библиотекам, совершая поездки в Рим, Испанию… И снова Лувр. Я в эти годы — только впитывающая губка, я весь – глаза, весь – уши”. Здесь, в Париже, Волошин стремительно ворвался в круг европейской культуры, здесь росла его мысль, окреп его стих, зародилась его живопись, выстрадалась первая любовь. Париж познакомил и надолго связал судьбу с русскими поэтами Серебряного века, с великими художниками и мыслителями мира. Здесь на бульваре Эксельман установлен памятный бюст Волошина, сработанный польским скульптором Виттигом, с короткой надписью “Поэт”.
К своим стихам Волошин относился всегда со строгостью. Его первый сборник вышел, когда ему было уже 33 года, в 1910 году. До этого он стал известен читателю как литературный и театральный критик, как знаток западной и русской живописи, как переводчик и собственный корреспондент в Париже нескольких газет и журналов: “Русская мысль”, “Новый путь”, “Северные цветы” и другие. И если “Русские сезоны” Дягилева способствовали открытию русской культуры в Париже, то Волошин явился подлинным проводником и открывателем современного классического искусства Европы для России.
Из автобиографии:
“С 1903 года встречаюсь с русскими поэтами моего поколения, старшими: Бальмонтом, Ивановым, Брюсовым, Балтрушайтисом, и со сверстниками – Блоком и Белым”.
Из воспоминаний Андрея Белого:
“Я увидел его впервые ещё до знакомства — в приложении к “Новому времени”, где поместили рисунок художницы Кругликовой. Вытягивалась борода, такие в Париже носили лопатою, и курчавая шапка волос, вставших, вьющихся кольцами, выпят губы из-под носа в пенсне с синусоидой шнура, взлетевшего в воздух. И в тот же вечер я увидел из передней ту же курчавую ярко-рыжую бороду, попав на званый ужин к Брюсову. Брюсов писал мне о нём ранее: юноша из Крыма, жил в Париже, интересно рассказывает, он умён и талантлив. Должен сказать, что я сейчас зарисовываю не мудреца коктебельского, а юношу, насквозь пропариженного от квартала Латинского до демократического цилиндра. Цилиндром этим Париж был переполнен.
Макс мог так блестяще открыть свой багаж идей, что все слушали. Волошин в полемике “круглил”. Он был точно плакат с начертанием Ангела мира. Волошин – сама доброта, умел мягко, с достоинством сглаживать, проходил через строй чужих мнений, не толкаясь, полный готовности выслушивать, впитать, вобрать и потом уже дать резолюцию. Преподнести её, точно на блюде, с приправой цитат анархических и декадентских”.
И день и ночь шумит угрюмо,
И день и ночь на берегу
Я бесконечность стерегу
Средь свиста, грохота и шума.
Когда ж зеркальность тишины
Сулит обманную беспечность,
Сквозит двойная бесконечность
Из отражённой глубины.
(Из цикла “Когда время останавливается”.)
Клочья тумана… вблизи… вдалеке…
Быстро текут очертанья.
Лампу Психеи несу я в руке –
Синее пламя познанья.
В безднах скрывается новое дно.
Формы и мысли смесились.
Все мы уж умерли где-то давно…
Все мы ещё не родились.
(Из цикла “Когда время останавливается”.)
Быть символистом – значит, в обыденном явлении жизни провидеть вечное. Символ – всегда переход частного к общему. Лик – это форма. Ликом познаётся безликое. Безобразный мир стучится в душу художника, чтобы через него найти себе своё воплощение. Человек, поднявшийся в самосознании до творчества, может сохранить, спасти свой лик для других поколений, запечатлеть его в зеркале их понимания. Поэтому-то в лике – высшая тайна. Человек – та мгновенная точка, через которую одна вечность перетекает в другую. Мгновения становятся вечностью, и вечность – мгновением.
Я шёл сквозь ночь, и бледной Смерти пламя
Лизнуло мне лицо и скрылось без следа…
Лишь Вечность зыблется ритмичными волнами.
И с грустью, как во сне, я помню иногда
Угасший метеор в пустынях мирозданья,
Седой кристалл в сверкающей пыли,
Где Ангел, проклятый проклятием всезнанья,
Живёт меж складками морщинистой земли.
(Из цикла “Звезда Полынь”.)
Оставаясь христианином, Волошин до конца жизни находился под влиянием религии религий – теософии, затем антропософии, ставящей целью раскрытие тайных внутренних сил человека. Близкое знакомство с 1905 года с религиозным немецким философом и учёным Рудольфом Штейнером в огромной степени определило путь его духовных и творческих исканий.
В России Волошина связывала дружба с теософкой Анной Минцловой, таинственно исчезнувшей в 1910 году. Понятие лика и духа пронизывало всё творчество Волошина, весь стиль его жизни. Под ликом он подразумевал неповторимые особенности человека или стихии в их внешних проявлениях. Так в статье “Ответ Валерию Брюсову” Волошин отмечал, что читает душу поэта не только по изгибам его ритмов, по интонации и рифме стиха, но и по тому, как сидит на нём платье, каким жестом он скрещивает руки и поднимает голову. Воплощение ликов в красках, в слове и звуке считал Волошин задачей художника.
Я весь – внимающее ухо,
Я весь – застывший полдень дня.
Неистощимо семя духа,
И плоть моя – росток огня:
Пусть капля жизни в море канет –
Не растворимо в смерти “Я”.
Не соблазнится плоть моя,
Личина трупа не обманет,
И не иссякнет бытие
Ни для меня, ни для другого.
Я был, я есмь, я буду снова!
Предвечно странствие моё.
(Из цикла “Блуждания”.)
НИ ПРОТИВ КОГО…
Из воспоминаний Марины Цветаевой:
“Миротворчество Макса входило в его мифотворчество – создание мифа о великом, мудром и добром человеке. Человек и его враг для Макса составляли единое целое. Мой враг был для него часть меня. Вражду он ощущал союзом. Макс неизменно стоял вне: не за каждого и не против кого. Его делом жизни было сводить и не разводить. Так он видел гражданскую войну.
Макс – шар, шар вечности, шар планеты. Да, Земной шар, на котором, как известно, горы высокие, бездны глубокие и который всё-таки шар. Зло для Макса было тьмой, бедой, напастью, часто просто глупостью: “Не всё так просто, друг Горацио! Зло – бельмо, под ним…”
У Макса была тайна, о которой он не говорил. Это знали все. Этой тайны не узнал никто. Макс сам был эта тайна.
…В одно из наших прощаний: “Марина Ивановна, почему вы даёте руку так, точно подкидываете мёртвого младенца, — без всякого рукопожатия, как посторонний предмет? Руку надо давать открыто, прижимать всей ладонью к ладони – и в этом весь смысл рукопожатия, потому что ладонь – жизнь. В вашем рукопожатии – отсутствие доверия. Ну, дайте руку как следует!” Максу я обязана крепостью и открытостью рукопожатия. И с ними пришедшему доверию к людям.
…Из гадания Макса по моей ладони помню одно: “Когда вы любите человека, Марина, вам всегда хочется, чтобы он ушёл, — чтобы о нём помечтать”. И через день письмо. Открываю – стихи.
Ваша книга – это весть Оттуда,
Утренняя благостная весть.
Я давно уж не приемлю чуда,
Но как сладко видеть: чудо есть!”
Первая мировая война застаёт Волошина в Базеле, в нейтральной Швейцарии, куда он приехал с Андреем Белым для участия в строительстве антропософского храма искусства, задуманного Р. Штейнером.
Из автобиографии:
“Эта работа – высокая и дружная – бок о бок с представителями всех враждующих наций в нескольких километрах от поля битв европейской войны была прекрасной и трудной школой человеческого и политического отношения к войне”.
Волошин в своих стихах о войне писал:
Бродила мщенья, дрожжи гнева,
Вникают в мысль, гниют в сердцах,
Туманят дух, цветут в бойцах
Огнями дьявольского сева. <…>
Не знать, не слышать и не видеть…
Застыть как соль… уйти в снега…
Дозволь не разлюбить врага
И брата не возненавидеть!
(Из цикла “Война”, “Газеты”.)
Как некий юноша в скитаньях без возврата,
Иду из края в край и от костра к костру…
Я в каждой девушке предчувствую сестру,
И между юношей ищу напрасно брата;
Щемящей радостью душа моя объята;
Я верю в жизнь, и в сон, и в правду, и в игру.
Я знаю, что приду к отцовскому шатру,
Где ждут меня мои и где я жил когда-то.
Бездомный долгий путь назначен мне судьбой…
Пускай другим он чужд… я не зову с собой –
Я странник и поэт, мечтатель и прохожий.
Любимое со мной. Минувшего не жаль.
А ты, что за плечом, — со мною тайно схожий,
Несбыточной мечтой сильнее жги и жаль!
(Из цикла “Блуждания”.)
Вскоре Волошина призывают на военную службу. Он едет в Россию с твёрдым намереньем отказаться: “Я не могу принять участия в братоубийственной войне, каковы бы ни были её причины. Как художник, работы которого есть создание форм, я не могу принять участие в деле разрушения форм и в том числе самой совершенной – храма человеческого тела. Тот, кто убеждён, что лучше быть убитым, чем убивать, не может быть солдатом”.
Из воспоминаний Ивана Бунина:
“Максимилиан Волошин был из наиболее видных поэтов предреволюционных и революционных лет России. Я лично знал его с времён довольно давних, но до наших последних встреч в Одессе зимой и весной 19 года, не близко.
Большевики приглашают одесских художников принять участие в украшению города к 1 Мая. Я его не раз предупреждал: не бегайте к большевикам, они ведь отлично знают, кем вы были ещё вчера. Болтает в ответ: искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и художник. В украшении чего – собственной виселицы? Он мне в ответ опять о том, что в каждом из нас, даже в убийце, в кретине, сокрыт страждущий серафим, что есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в людей, дабы принять распятие, горение, из коего возникают какие-то прокалённые и просветлённые лики. Всё-таки побежал! А на другой день в “Известиях”: “К нам лезет Волошин. Всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам”.
Из воспоминаний Евгении Герцык:
“Все, кто знали его в эпоху гражданской войны и смены правительств, длившейся в Крыму три с лишним года, верно, запомнили, как чужд он был метанья и перепуга, политических восторгов. На свой лад, но так же упрямо, как Лев Толстой, противостоял он вихрям истории, бившим о порог его дома”.
Из воспоминаний Ильи Эренбурга:
“Когда я был в Коктебеле, он показал себя мужественно. В мае 1920 года он спрятал от врангелевцев на чердаке своего дома большевика, участника подпольной конференции. Когда белые арестовали поэта Мандельштама, Волошин поехал в Феодосию. Добился приёма у начальника военной разведки, которому сказал: “По характеру вашей работы вы не обязаны быть осведомлённым о русской поэзии. Я приехал, чтобы заявить, что арестованный вами Осип Мандельштам – большой поэт!” Он делал это не потому, что проникся идеями революции, нет. Он был человеком смелым, любил поэзию, любил Россию. Как его ни звали за границу, он остался в Коктебеле”: “Когда мать больна – дети её остаются с нею”.
Из автобиографии:
“19 год толкнул меня к общественной деятельности в единственной форме, возможной при моём отрицательном отношении ко всякой политике, ко всякой государственности – к борьбе с террором, независимо от его окраски. Дух партийности мне ненавистен, из всяких кругов преисподней террора и голода я вынес свою веру в человека. Эти же годы явились наиболее плодотворными в моей поэзии. Моя тема – Россия”.
Одни возносят на плакатах
Свой бред о буржуазном зле,
О светлых пролетариатах,
Мещанском рае на земле…
В других весь цвет, вся гниль Империй,
Всё золото, весь тлен идей,
Блеск всех великих фетишей
И всех научных суеверий. <…>
В тех и других война вдохнула
Гнев, жадность, мрачный хмель разгула, —
А вслед героям и вождям
Крадётся хищник стаей жадной,
Чтоб мощь России неоглядной
Размыкать и продать врагам! <…>
И там, и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
— “Кто не за нас – тот против нас!
Нет безразличных: правда с нами!”
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.
(Из цикла “Усобица”, “Гражданская война”.)
Я голос вопиющего в пустыне
Кишащих множеств, в спазмах городов,
В водоворотах улиц и вокзалов –
В безлюднейшей из всех пустынь земли. <…>
Вы – узники своих же лабиринтов!
Вы – мертвецы заклёпанных гробов!
Вы – суеверы, мечущие бомбы
В парламенты, и в биржи, и в дворцы, —
Вы мыслите разрушить динамитом
Всё то, что прорастает изнутри –
Из вас самих с неудержимой силой!
Я призываю вас <…>
К пересозданью самого себя. <…>
Твой Бог в тебе,
И не ищи другого <…>:
Проверь
Весь внешний мир:
Везде закон <…>,
Но нет любви:
Её источник – Ты!
Бог есть любовь…
(Из цикла “Бунтовщик”.)
В этих стихах, как и в статьях, написанных в те годы, такие прозрения, которые в полной мере понятны только теперь: неизбежна деформация большевизма, стремление русского народа передать власть одному Спасителю, трагедия классового сознания: “Я имею претензию быть создателем собственной классовой системы, утверждаю право быть Человеком, а не гражданином”. А на вопрос: “К какому крылу вы примыкаете – к красному или к белому?” Волошин отвечал: “Я летаю на двух крыльях”.
ЗАВЕЩАНИЕ НАМ…
Далёкие потомки наши, знайте,
Что если вы живёте во вселенной,
Где каждая частица вещества
С другою слита жертвенной любовью
И человечеством преодолён
Закон необходимости и смерти, —
То в этом мире есть и наша доля!
(Из цикла “Усобица”, “Потомкам”.)
Мы, возводя соборы космогоний,
Не внешний в них отображаем мир,
А только грани нашего незнанья.
Системы мира – слепки древних душ,
Зеркальный бред взаимоотражений
Двух противопоставленных глубин.
Нет выхода из лабиринта знанья,
И человек не станет никогда
Иным, чем то, во что он страстно верит
Так будь же сам вселенной и творцом,
Сознай себя божественным и вечным…
(Из цикла “Космос”.)
Материал подготовлен по док. фильму “Максимилиан Волошин”,
автор сценария и режиссёр О. Рябоконь.
Вы просматриваете АРХИВ сайта. Актуальная версия сайта находится по адресу www.svetgrad.ru